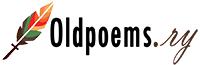Я без воззваний жил во Званке,
где звонки соловьи поют.
Приблудной Музе-оборванке
во флигеле я дал приют.
Она на пяльцах вышивала
апостолов, орлов и львов,
и Дашенька не выживала
из флигеля мою любовь.
Ни в чем пииту не переча,
оне ложились на кровать.
Любил обеих он, так неча
обеим было ревновать.
И он не чаял в них измены,
ниже волнения молвы.
Сколь верны Росския Камены!
И жены тоже таковы.
Да что пиит! (Будь он неладен!)
Висит промежду перекладин!
Но невозможно жить без жертв.
Воистину тот жив, кто гладен,
кто сыт да гладок – полумертв.
Покой мой дряхлый мне отраден,
и нет на мне чертовских черт.
И если всё еще я жаден,
так вот уж не до райских гадин.
Ужели жил я долго вскую
на животрепетном краю,
очами гладя волховскую
всегда пременную струю?
А дура Муза говорила
на перепутии стихий:
«Люблю тебя! Крути, Гаврила,
и перемалывай стихи!»
Но так ли глупы те чинуши,
которым вечность суждена,
что прозакладывают души
под милости и ордена?
А что им крикнуть (не «тубо» же),
сим комнатным и гончим псам?
На них управы нету, Боже!
О том Ты ведаешь и Сам.
Но Званка, Званка, крепостная
моя красавица со мной!
И доживаю допоздна я
хозяйски жизнью запасной.
Ломаю понемногу время,
в отставку выгнав целый век.
Сижу во Званке, как в гареме,
я, православный человек.
По осени брожу по ржавой,
когда дожди меня поят,
и я Российскою державой,
как бабой доброю, объят.
Шагаю по стерне шершавой,
хлебаю живописны щи…
А что там слышно за Варшавой?
Европа ропщет? Ну, ропщи!
Живу во Званке я под старость.
Приди, отец архимандрит,
и зри, как оная мудрит,
ввергаясь и в покой и в ярость!
Займи очей моих ревнивых,
иди по строгой борозде
и зри, как блещут зори в нивах
и стелят шелком по воде!
Внемли же стук колес и гумен,
и песнь, что бьет ключом из дев!
И за меня молись, игумен,
молебен, яко длань, воздев!
Я в иноческий чин не лезу,
и всё мое еще при мне.
Да уподоблюсь я железу
и звездному огню в кремне!
Устрою нынче я смотрины
для полнотелой осетрины.
Приди же, отче, а на нас
умильно взглянет ананас.
На должно тут же сядет место
и белорыбица-невеста,
преображенная в балык.
Резвятся крохотны пороки,
когда, еще слагая строки,
пиит уже не вяжет лык.
Да будешь, Боже, Ты преславен
во всех житейских чудесах!
Я, росс и Гавриил Державин,
о сем писах, еже писах.
7-17 марта 1976