Идут года железными полками,
И воздух полн железными шарами.
Оно бесцветное — в воде железясь,
И розовое, на подушке грезясь.
Железная правда — живой на зависть,
Железен пестик, и железна завязь.
И железой поэзия в железе,
Слезящаяся в родовом разрезе.
22 мая 1935
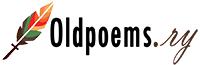
Неподдельно, не без мучительных эмоций писал О. Мандельштам. Его лирический герой остро испытывает внутреннюю, душевную неуютность. В данном настроении затейливые подозрения внезапно обретают вещный вид, не редко устрашающий, так как болезненные изломы сообщаются даже природе:
Что если над медной лавкою, Мерцающая всегда, Мне в сердце длинной булавкою Опустится внезапно звезда?
Порой хмурая мысль выразительно воплощена в деталях безрадостного пейзажа:
Я вижу месяц бездыханный И небо мертвенней холста; Твой мир, болезненный и необычный,
Я принимаю, пустота.
МертвенностИ, чудаковатости, опустошенности – всем данным болезненным состояниям души – Мандельштам находил точное соответствие, зорко найденное в беспристрастной действительности. Противоположного поиска нет. Конечно, не потому, что поэт не видел ликующих картин.
Просто они не вызывали сопереживания: самоощущение лирического субъекта очутилось болезненным. А если и возникали малые приметы иного самоидентичности, то ассоциировалось оно с ненатуральными, искусственными (не которые обладают настоящей силой) красками и венчалось опять снижением:
Я блуждал в игрушечной чаще И открыл лазоревый
грот… Неужели я истинный И поистине смерть придет?
Мандельштам стремился к литературным, музыкальным, театральным реминисценциям. Тоже закономерно. В искусстве изыскивалась вероятность приобщения к ценностям.
И здесь многое останавливало на себе авторский взор. Но и лишь. Постороннее не впечатляло.
Об данном сказано немедленно: “Ни о чем не нужно говорить, ничему не необходимо учить” – “темная звериная душа и печальна так и хороша”. Разговор не об отрицании культуры, а о разрыве с ней неудовлетворенного, ищущего “я”. Только обычное течение существования успокаивает:
В спокойных окраинах снег Сгребают дворники лопатами. Я с мужиками бородатыми Иду, прохожий человек.
Мандельштам владел тонким мастерством создания тревожной, даже катастрофической атмосферы. Из внешне будто обыденных реалий образуется ужасный, “перевернутый” мир, когда “на веки чуткие спустился потолок”, “мерцают в зеркале подушки, едва белея. И в круглом омуте кровать отражена”. Мучительна, видимо, для поэта способность смотреть на текущую жизнь глазами боли и тоски.
Но он мужествен. Может быть, потому, что всегда находит действенное средство для “заклинания” диссонансов. Мандельштам имел право воскликнуть: “Я научился вам, блаженные слова!” Его образ действует магически: “морской воды тяжелый изумруд”, “ночью долгой Мы смесь бессолнечную пьем”… Слово спасает, охраняет:
Мне не надо пропуска ночного, Часовых я не боюсь За блаженное, бессмысленное слово Я в ночи январской помолюсь.
А как же жизнестроение? Где открытие акмеистами зримой красоты, которое предсказано С. Городецким? Открытия были: преображение мук “нелюбви”, “невстречи” в полет птицы-песни у Ахматовой. Поэзия “дальних странствий”, мечты осуществить “скудную землю” – “звездою, огнем пронизанной насквозь” – у Гумилева.
Чувство “глаза, лишенного век” – для бесконечных поисков земных мощи и красоты – у Волошина. Мандельштам донес свое, грустное – изжитость прежних упований, обманчивость светлых лучей; строительству предпослал разрушение. И проделал это впечатляюще.
… если по чесноку, то не очень… а все «ах, ах…» …и как только не стыдно!!!