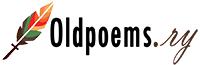Диане и Алану Майерс
I. Брайтон-рок
Ты возвращаешься, сизый цвет ранних сумерек. Меловые
скалы Сассекса в море отбрасывают запах сухой травы и
длинную тень, как ненужную черную вещь. Рябое
море на сушу выбрасывает шум прибоя
и остатки ультрамарина. Из сочетанья всплеска
лишней воды с лишней тьмой возникают, резко
выделяя на фоне неба шпили церквей, обрывы
скал, эти сизые, цвета пойманной рыбы,
летние сумерки; и я прихожу в себя. В зарослях беззаботно
вскрикивает коноплянка. Чистая линия горизонта
с облаком напоминает веревку с выстиранной рубашкой,
и танкер перебирает мачтами, как упавший
на спину муравей. В сознании всплывает чей-то
телефонный номер — порванная ячейка
опустевшего невода. Бриз овевает щеку.
Мертвая зыбь баюкает беспокойную щепку,
и отражение полощется рядом с оцепеневшей лодкой.
В середине длинной или в конце короткой
жизни спускаешься к волнам не выкупаться, но ради
темно-серой, безлюдной, бесчеловечной глади,
схожей цветом с глазами, глядящими, не мигая,
на нее, как две капли воды. Как молчанье на попугая.
II. Северный Кенсингтон
Шорох «Ирландского времени», гонимого ветром по
железнодорожным путям к брошенному депо,
шелест мертвой полыни, опередившей осень,
серый язык воды подле кирпичных десен.
Как я люблю эти звуки — звуки бесцельной, но
длящейся жизни, к которым уже давно
ничего не прибавить, кроме шуршащих галькой
собственных грузных шагов. И в небо запустишь гайкой.
Только мышь понимает прелести пустыря —
ржавого рельса, выдернутого штыря,
проводов, не способных взять выше сиплого до-диеза,
поражения времени перед лицом железа.
Ничего не исправить, не использовать впредь.
Можно только залить асфальтом или стереть
взрывом с лица земли, свыкшегося с гримасой
бетонного стадиона с орущей массой.
И появится мышь. Медленно, не спеша,
выйдет на середину поля, мелкая, как душа
по отношению к плоти, и, приподняв свою
обезумевшую мордочку, скажет «не узнаю».
III. Сохо
В венецианском стекле, окруженном тяжелой рамой,
отражается матовый профиль красавицы с рваной раной
говорящего рта. Партнер созерцает стены,
где узоры обоев спустя восемь лет превратились в «Сцены
скачек в Эпсоме». — Флаги. Наездник в алом
картузе рвется к финишу на полуторагодовалом
жеребце. Все слилось в сплошное пятно. В ушах завывает ветер.
На трибунах творится невообразимое… — «не ответил
на второе письмо, и тогда я решила…» Голос
представляет собой борьбу глагола с
ненаставшим временем. Молодая, худая
рука перебирает локоны, струящиеся, не впадая
никуда, точно воды многих
рек. Оседлав деревянных четвероногих,
вокруг стола с недопитым павшие смертью храбрых
на чужих простынях джигитуют при канделябрах
к подворотне в -ском переулке, засыпанном снегом. — Флаги
жухнут. Ветер стихает; и капли влаги
различимы становятся у соперника на подбородке,
и трибуны теряются из виду… — В подворотне
светит желтая лампочка, чуть золотя сугробы,
словно рыхлую корочку венской сдобы. Однако, кто бы
ни пришел сюда первым, колокол в переулке
не звонит. И подковы сивки или каурки
в настоящем прошедшем, даже достигнув цели,
не оставляют следов на снегу. Как лошади карусели.
IV. Ист Финчли
Вечер. Громоздкое тело движется в узкой,
стриженной под полубокс аллее с рядами фуксий
и садовой герани, точно дредноут в мелком
деревенском канале. Перепачканный мелом
правый рукав пиджака, так же как самый голос,
выдает род занятий — «Розу и гладиолус
поливать можно реже, чем далии и гиацинты,
раз или два в неделю». И он мне приводит цифры
из «Советов любителю-садоводу»
и строку из Вергилия. Земля поглощает воду
с неожиданной скоростью, и он прячет глаза. В гостиной,
скупо обставленной, нарочито пустынной,
жена — он женат вторым браком, — как подобает женам,
раскладывает, напевая, любимый Джоном
Голсуорси пасьянс «Паук». На стене акварель: в воде
отражается вид моста неизвестно где.
Всякий живущий на острове догадывается, что рано
или поздно все это кончается; что вода из-под крана,
прекращая быть пресной, делается соленой,
и нога, хрустевшая гравием и соломой,
ощущает внезапный холод в носке ботинка.
В музыке есть то место, когда пластинка
начинает вращаться против движенья стрелки.
И на камине маячит чучело перепелки,
понадеявшейся на бесконечность лета,
ваза с веточкой бересклета
и открытки с видом базара где-то в Алжире — груды
пестрой материи, бронзовые сосуды,
сзади то ли верблюды, то ли просто холмы;
люди в тюрбанах. Не такие, как мы.
Аллегория памяти, воплощенная в твердом
карандаше, зависшем в воздухе над кроссвордом.
Дом на пустынной улице, стелящейся покато,
в чьих одинаковых стеклах солнце в часы заката
отражается, точно в окне экспресса,
уходящего в вечность, где не нужны колеса.
Милая спальня (между подушек — кукла),
где ей снятся ее «кошмары». Кухня;
издающая запах чая гудящая хризантема
газовой плитки. И очертания тела
оседают на кресло, как гуща, отделяющаяся от жижи.
Посредине абсурда, ужаса, скуки жизни
стоят за стеклом цветы, как вывернутые наизнанку
мелкие вещи — с розой, подобно знаку
бесконечности из-за пучка восьмерок,
с колесом георгина, буксующим меж распорок,
как расхристанный локомотив Боччони,
с танцовщицами-фуксиями и с еще не
распустившейся далией. Плавающий в покое
мир, где не спрашивают «что такое?
что ты сказал? повтори» — потому что эхо
возвращает того воробья неизменно в ухо
от китайской стены; потому что ты
произнес только одно: «цветы».
V. Три рыцаря
В старой ротонде аббатства, в алтаре, на полу
спят вечным сном три рыцаря, поблескивая в полу-
мраке ротонды, как каменные осетры,
чешуею кольчуги и жабрами лат. Все три
горбоносы и узколицы, и с головы до пят
рыцари: в панцире, шлеме, с длинным мечом. И спят
дольше, чем бодрствовали. Сумрак ротонды. Руки
скрещены на груди, точно две севрюги.
За щелчком аппарата следует вспышка — род
выстрела (все, что нас отбрасывает вперед,
на стену будущего, есть как бы выстрел). Три
рыцаря, не шелохнувшись, повторяют внутри
камеры то, что уже случилось — либо при Пуатье,
либо в святой земле: путешественник в канотье
для почивших за-ради Отца и Сына
и Святого Духа ужаснее сарацина.
Аббатство привольно раскинулось на берегу реки.
Купы зеленых деревьев. Белые мотыльки
порхают у баптистерия над клумбой и т. д.
Прохладный английский полдень. В Англии, как нигде,
природа скорее успокаивает, чем увлекает глаз;
и под стеной ротонды, как перед раз
навсегда опустившимся занавесом в театре,
аплодисменты боярышника ты не разделишь на три.
VI. Йорк
W. H. A.
Бабочки северной Англии пляшут над лебедою
под кирпичной стеною мертвой фабрики. За средою
наступает четверг, и т. д. Небо пышет жаром,
и поля выгорают. Города отдают лежалым
полосатым сукном, георгины страдают жаждой.
И твой голос — «Я знал трех великих поэтов. Каждый
был большой сукин сын» — раздается в моих ушах
с неожиданной четкостью. Я замедляю шаг
и готов оглянуться. Скоро четыре года,
как ты умер в австрийской гостинице. Под стрелкой перехода
ни души: черепичные кровли, асфальт, известка,
тополя. Честер тоже умер — тебе известно
это лучше, чем мне. Как костяшки на пыльных счетах,
воробьи восседают на проводах. Ничто так
не превращает знакомый подъезд в толчею колонн,
как любовь к человеку; особенно, если он
мертв. Отсутствие ветра заставляет тугие листья
напрягать свои мышцы и нехотя шевелиться.
Танец белых капустниц похож на корабль в бурю.
Человек приносит с собою тупик в любую
точку света; и согнутое колено
размножает тупым углом перспективу плена,
как журавлиный клин, когда он берет
курс на юг. Как все движущееся вперед.
Пустота, поглощая солнечный свет на общих
основаньях с боярышником, увеличивается наощупь
в направленьи вытянутой руки, и
мир сливается в длинную улицу, на которой живут другие.
В этом смысле он — Англия. Англия в этом смысле
до сих пор Империя и в состояньи — если
верить музыке, булькающей водой, —
править морями. Впрочем — любой средой.
Я в последнее время немного сбиваюсь, скалюсь
отраженью в стекле витрины; покамест палец
набирает свой номер, рука опускает трубку.
Стоит закрыть глаза, как вижу пустую шлюпку,
замерзшую на воде посредине бухты.
Выходя наружу из телефонной будки,
слышу голос скворца, в крике его — испуг.
Но раньше, чем он взлетает, звук
растворяется в воздухе. Чьей беспредметной сини
и сродни эта жизнь, где вещи видней в пустыне,
ибо в ней тебя нет. И вакуум постепенно
заполняет местный ландшафт. Как сухая пена,
овцы покоятся на темнозеленых волнах
йоркширского вереска. Кордебалет проворных
бабочек, повинуясь невидимому смычку,
мельтешит над заросшей канавой, не давая зрачку
ни на чем задержаться. И вертикальный стебель
иван-чая длинней уходящей на север
древней Римской дороги, всеми забытой в Риме.
Вычитая из меньшего большее, из человека — Время,
получаешь в остатке слова, выделяющиеся на белом
фоне отчетливей, чем удается телом
это сделать при жизни, даже сказав «лови!».
Что источник любви превращает в объект любви.
VII
Английские каменные деревни.
Бутылка собора в окне харчевни.
Коровы, разбредшиеся по полям.
Памятники королям.
Человек в костюме, побитом молью,
провожает поезд, идущий, как все тут, к морю,
улыбается дочке, уезжающей на Восток.
Раздается свисток.
И бескрайнее небо над черепицей
тем синее, чем громче птицей
оглашаемо. И чем громче поет она,
тем все меньше видна.
1976
* Датировано по переводу в PS ( в СИБ).