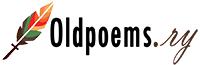Я шел вдоль моря по камням округлым.
Когда все это было? Было утром.
Всё, может, только началось на свете…
Впервые сохли соты света – сети.
Крылом чертила ласточка кривые.
Тень, дергаясь, неслась под ней – впервые!
Все – эполеты крабов голубые,
звезда на маяке – все, все впервые…
Я шел, прочтя сто лозунгов и басен.
Был, говорят, и дерзок, и прекрасен.
И челка, мамой вымыта, лежала
на голове, как школьное лекало!
Мне было одному не одиноко!
Там туфли у воды или бинокль?
Ах, женщины! Вас приближать не нужно…
Я видел весла, пчел, гудевших дружно.
Был черен виноград, пыльцою светел.
Но вот и одиночество я встретил…
Что это значит? Это мысль о смерти.
С чего бы это? Ни к чему, поверьте.
Я закурил. Вдруг рядом – ноги босы…
глаза зеленые чуть-чуть раскосы.
Смеется. На руке от соли бледной
витой браслет блестит дешевый, медный.
Сказала: «Здравствуй!» И пошли мы дальше
по шелестящей, по хрустящей гальке…
Мы шли да шли – не близко, не далеко.
И было нам двоим не одиноко.
Гремел над морем трубный глас Эола.
И что нам встретилось? Толпа у мола.
А он лежал тяжелый, как ребенок,
далекого дельфина дельфинёнок.
Ободранный суденышком, винтами,
и выброшенный на берег волнами.
Винты чернели в общем, беспечально,
как зерна в яблоке, в воде хрустальной!
А он лежал. И пальцами, ногами
все пробовали слизь под плавниками.
Он был облит смолой своею крепко,
как электрическая батарейка!
И голова в песок – до середины…
(Как странно улыбаются дельфины!)
И я сказал: «Дельфин, прости, дружище!
Случайность… Ей законов не подыщешь.
Прости ее слепую непреложность
и гордую свою неосторожность.
В зеленом море неспроста в порядке,
как зерна в яблоке, винта лопатки.
Все повторится: риск, и море это,
и ты, растерзанный, и дым рассвета.
Нам суши – мало! Потому мы лезем,
одетые, обутые железом…»
И к нам сошла с любимой, как сиянье,
боль страданья, мука состраданья.
И тут возникла школьница-девчонка,
чернила на губах, кругла юбчонка.
Худая, некрасивая. Но внешность
скрыть не могла застенчивую нежность.
Слезой, блеснувшей на ее ресничке,
я тоже плакал, разминая спички.
Не знаю, кто она, зачем, откуда.
Но взять ее с собою – не причуда…
И дальше мы пошли. Пошли далеко.
И было нам троим не одиноко.
И что нам встретилось? Палатки дальше.
Что это?! Императорские дачи.
Налево, прямо… А на пьедестале
из снега будто девушки стояли!
Холеный мрамор, голубое диво.
Резец работал здесь неторопливо…
Моя красивая вздохнула смело.
А девочка, пригнувшись, помрачнела.
И было так: свет пристальный, вечерний
рождал в воде свет призрачный, дочерний.
И потемнело вдруг. Из мрака еле,
должно быть, римлян статуи блестели.
А эти?. чьи же головы они мне
напоминают в зябком влажном нимбе?
Какие же властители тупые
имели очертания такие?
А оказалось – тут шары ограды
курорта «Н». Мне, впрочем, так и надо!
И мы смеялись. И маяк неясный
распахивал, запахивал плащ красный.
Распахивал, запахивал, и воды
дышали вкусом ледяной свободы!
И нам казалось, мы-то уж, конечно,
жить будем только дерзко, только вечно!
И наши разошлись тропинки вскоре.
И каждую из них слизнуло море…
1975