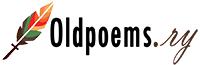Среди вельмож времен Елизаветы
и ты блистал, чтил пышные заветы,
и круг брыжей, атласным серебром
обтянутая ляжка, клин бородки — все было как у всех… Так в плащ короткий
божественный запахивался гром.
Надменно-чужд тревоге театральной,
ты отстранил легко и беспечально
в сухой венок свивающийся лавр
и скрыл навек чудовищный свой гений
под маскою, но гул твоих видений
остался нам: венецианский мавр
и скорбь его; лицо Фальстафа — вымя
с наклеенными усиками; Лир
бушующий… Ты здесь, ты жив — но имя,
но облик свой, обманывая мир,
ты потопил в тебе любезной Лете.
И то сказать: труды твои привык
подписывать — за плату — ростовщик,
тот Вилль Шекспир, что «Тень» играл в «Гамлете»,
жил в кабаках и умер, не успев
переварить кабанью головизну…
Дышал фрегат, ты покидал отчизну.
Италию ты видел. Нараспев
звал женский голос сквозь узор железа,
звал на балкон высокого инглеза,
томимого лимонною луной
на улицах Вероны. Мне охота
воображать, что, может быть, смешной
и ласковый создатель Дон Кихота
беседовал с тобою — невзначай,
пока меняли лошадей — и, верно,
был вечер синь. В колодце, за таверной,
ведро звенело чисто… Отвечай,
кого любил? Откройся, в чьих записках
ты упомянут мельком? Мало ль низких,
ничтожных душ оставили свой след — каких имен не сыщешь у Брантома!
Откройся, бог ямбического грома,
стоустый и немыслимый поэт!
Нет! В должный час, когда почуял — гонит
тебя Господь из жизни — вспоминал
ты рукописи тайные и знал,
что твоего величия не тронет
молвы мирской бесстыдное клеймо,
что навсегда в пыли столетий зыбкой
пребудешь ты безликим, как само
бессмертие… И вдаль ушел с улыбкой.
Декабрь 1924