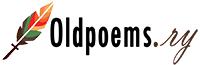Я во Львове. Служу на сборах,
в красных кронах, лепных соборах.
Там столкнулся с судьбой моей
лейтенант Загорин. Андрей.
(Странно… Даже Андрей Андреевич, 1933, 174. Сапог 42. Он дал мне свою гимнастерку. Она сомкнулась на моей груди тугая, как кожа тополя. И внезапно над моей головой зашумела чужая жизнь, судьба, как шумят кроны… «Странно»,— подумал я…)
Ночь. Мешая Маркса с Авиценной, спирт с вином, с луной Целиноград, о России рубят офицеры. А Загорин мой — зеленоглаз! И как фары огненные манят — из его цыганского лица вылетал сжигающий румянец декабриста или чернеца. Так же, может, Лермонтов1 и Пестель, как и вы, сидели, лейтенант. Смысл России исключает бездарь. Тухачевский ставил на талант. Если чей-то череп застил свет, вы навылет прошибали череп и в свободу глядели через — как глядят в смотровую щель! Но и вас сносило наземь, косо, сжав коня кусачками рейтуз. «Ах, поручик, биты ваши козыри». «Крою сердцем — это пятый туз!» Огненное офицерство! Сердце — ваш беспроигрышный бой, Амбразуры закрывает сердце. Гибнет от булавки болевой. На балкон мы вышли. Внизу шумел Львов. Он рассказал мне свою историю. У каждого офицера есть своя история. В этой была женщина и лифт. «Странно»,— подумал я...