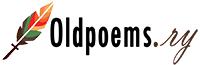Годы молодые с забубенной славой,
Отравил я сам вас горькою отравой.
Я не знаю: мой конец близок ли, далек ли,
Были синие глаза, да теперь поблекли.
Где ты, радость? Темь и жуть, грустно и обидно.
В поле, что ли? В кабаке? Ничего не видно.
Руки вытяну — и вот слушаю на ощупь:
Едем… кони… сани… снег… проезжаем рощу.
«Эй, ямщик, неси вовсю! Чай, рожден не слабый.
Душу вытрясти не жаль по таким ухабам».
А ямщик в ответ одно: «По такой метели
Очень страшно, чтоб в пути лошади вспотели».
«Ты, ямщик, я вижу, трус. Это не с руки нам!»
Взял я кнут и ну стегать по лошажьим спинам.
Бью, а кони, как метель, снег разносят в хлопья.
Вдруг толчок… и из саней прямо на сугроб я.
Встал и вижу: что за черт — вместо бойкой тройки,
Забинтованный лежу на больничной койке.
И заместо лошадей по дороге тряской
Бью я жесткую кровать мокрою повязкой.
На лице часов в усы закрутились стрелки.
Наклонились надо мной сонные сиделки.
Наклонились и храпят: «Эх ты: златоглавый,
Отравил ты сам себя горькою отравой.
Мы не знаем, твой конец близок ли, далек ли,—
Синие твои глаза в кабаках промокли».
1924