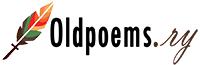Нынче утром певшее железо
сердце мне изрезало в куски,
оттого и мысли, может, лезут
на стены, на выступы тоски.
Нынче город молотами в ухо
мне вогнал распевов костыли,
черных лестниц, сумерек и кухонь
чад передо мною расстелив.
Ты в заре торжественной и трезвой,
разогнавшей тленья тень и сон,
хрипом этой песни не побрезгуй,
зарумянь ей серое лицо!
Я хочу тебя увидеть, Гастев,
длинным, свежим, звонким и стальным,
чтобы мне — при всех стихов богатстве —
не хотелось верить остальным;
Чтоб стеклом прозрачных и спокойных
глаз своих, разрезами в сажень,
ты застиг бы вешний подоконник
(это на девятом этаже);
Чтобы ты зарокотал, как желоб
от бранчливых маевых дождей;
чтобы мне не слышать этих жалоб
с улиц, бьющих пылью в каждый день;
Чтобы ты сновал не снов основой
у машины в яростном плену;
чтоб ты шел, как в вихре лес сосновый,
землю с небом струнами стянув!..
Мы — мещане. Стоит ли стараться
из подвалов наших, из мансард
мукой бесконечных операций
нарезать эпоху на сердца?
Может быть, и не было бы пользы,
может, гром прошел бы полосой,
но смотри — весь мир свивает в кольца
немотой железных голосов.
И когда я забиваю в зори
этой песни рвущийся забой,-
нет, никто б не мог меня поссорить
с будущим, зовущим за собой!
И недаром этот я влачу гам
чугуна и свежий скрежет пил:
он везде к расплывшимся лачугам
наводненьем песен подступил.
Я тебя и никогда не видел,
только гул твой слышал на заре,
но я знаю: ты живешь — Овидий
горняков, шахтеров, слесарей!
Ты чего ж перед лицом врага стих?
Разве мы безмолвием больны?
Я хочу тебя услышать, Гастев,
больше, чем кого из остальных!
1922