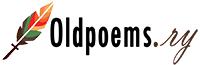Весной сорок второго года
множество ленинградцев
носило на груди жетон —
ласточку с письмом в
клюве.
Сквозь года, и радость, и невзгоды
вечно будет мне сиять одна —
та весна сорок второго года,
в осажденном городе весна.
Маленькую ласточку из жести
я носила на груди сама.
Это было знаком доброй вести,
это означало: «Жду письма».
Этот знак придумала блокада.
Знали мы, что только самолет,
только птица к нам, до Ленинграда,
с милой-милой родины дойдет.
… Сколько писем с той поры мне было.
Отчего же кажется самой,
что доныне я не получила
самое желанное письмо?!
Чтобы к жизни, вставшей за словами,
к правде, влитой в каждую строку,
совестью припасть бы, как устами
в раскаленный полдень — к роднику.
Кто не написал его? Не выслал?
Счастье ли? Победа ли? Беда?
Или друг, который не отыскан
и не узнан мною навсегда?
Или где-нибудь доныне бродит
то письмо, желанное, как свет?
Ищет адрес мой и не находит
и, томясь, тоскует: где ж ответ?
Или близок день, и непременно
в час большой душевной тишины
я приму неслыханной, нетленной
весть, идущую еще с войны…
О, найди меня, гори со мною,
ты, давно обещанная мне
всем, что было,- даже той смешною
ласточкой, в осаде, на войне…
1945